
АГАБАБА БУНЬЯТЗАДЕ: ВЕЛИКИЙ ГОЛОС ГАСАН-ХАНА
Со дня рождения незаурядного артиста, строгого, открытого и требовательного к себе, прошло ровно 110 лет
Автор: Нигяр ВЕЛИЕВА
Есть певцы, которых публика помнит за красивый голос. Есть те, кого запоминают за яркие роли. А есть редкие артисты, чей голос становится выразителем целой эпохи. Народный артист Азербайджана Агабаба Буньятзаде был именно такой: строгий и открытый, требовательный к себе и безгранично щедрый на тепло для людей вокруг. Голос, который «распахивал» сердца, продолжает звучать там до сих пор. В среде обывателей существует стереотип, что оперный певец - обязательно величавый человек с горделивым взглядом, сдержанно рассыпающий комплименты коллегам и редко замечающий простых людей за сценой. Но это не про него - Агабабу Буньятзаде, выдающегося баритона. Каждый, кто когда-либо слышал этот голос - широкий, крепкий, теплый, - не забудет его никогда. Потому что он не просто пел - он жил в каждой своей роли. В этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения.
«Не потерять»
Агабаба Балага оглу Буньятзаде родился летом 1915 года в той самой части Баку, где нефть всегда пахла сильнее моря. Мальчишкой он не мечтал о сцене, но голос его, ясный и густой, с детства притягивал дворовых слушателей.
Как и положено сыну бакинского рабочего, после школы он пошел учиться на токаря. Окончив фабрично-заводское училище в 1934 году, устроился на механический завод имени 1 Мая. Днем - станок и детали. Вечером - репетиции с заводским ансамблем. Каждое предприятие тогда жило песней: и в цеху, и на сцене. Вскоре каждый знал: этот высокий парень с мягким взглядом поет так, что все остальное отходит на второй план.
В 1936 году маленькая заметка в газете перевернула его жизнь. Для Декады азербайджанской литературы и искусства в Москве набирали хор. Для прослушивания были поданы сотни заявок. Среди них было и заявление заводского токаря. На том прослушивании сидел сам Узеир Гаджибейли. Говорят, услышав голос Буньятзаде, он обронил: «Не потерять». Так токарь стал артистом хора оперного театра.
Сначала он стоял в хоре, пел общие сцены, старался слушать, запоминать. Сцена манила его больше, чем любое другое место. Вскоре ему доверили партию Глашатая в «Кероглу». А за кулисами он снова и снова напевал куски чужих партий. Он учил партию Гасан-хана на память, не смея пока и мечтать о большом сольном выходе.
Те, кто в те годы бывал за кулисами, помнят одного тихого, очень сосредоточенного молодого певца. Он никогда не шумел, не хвастался голосом - но голос этот, стоило ему распеться, заставлял всех умолкать.
Исмаил Идаятзаде, режиссер постановки, человек редкой выдумки и невероятной силы увлечь за собой, увидел, как поет Буньятзаде за кулисами. Услышал - и понял. На одной из репетиций он сказал Гаджибейли: «Я вам покажу сюрприз - у нас новый Гасан-хан». Так в марте 1937 года Буньятзаде перевели из хора в труппу солистов.
«…всегда можно еще лучше»
Он знал, что одного природного баритона мало. Сцена любит голос, но требует школы. В 1938 году он едет в Москву учиться в знаменитом училище имени Гнесиных. Эти годы он потом называл настоящим испытанием: строгость преподавателей, каждодневные распевки, работа над дыханием, нюансами. Когда вернулся в Баку, пошел в оперную студию при Азгосконсерватории, в класс Константина Книжникова. Годы у Книжникова сделали его голос свободным и гибким - он мог и властно греметь в драматических ролях, и петь почти шепотом тонкие лирические фразы.
Он вышел на большую сцену с партиями Хана в «Шахсенем» Р.Глиэра и Газара в «Наргиз» М.Магомаева. Пел так, что критики стали говорить о нем как о новом лице бакинской сцены. Он брал партию Аслан шаха в опере «Шах Исмаил» - и в каждой репетиции искал, где можно сыграть тоньше, острее. Но главной его ролью все равно стал Гасан-хан.
В 1941 году он впервые спел Гасан-хана в «Кероглу». В те годы за кулисами не было привычки аплодировать исполнителю, но когда он выходил после арии, даже сцена за спиной замирала. Он вспоминал: «Узеир бек подошел ко мне и сказал: «Хорошо. Но знай - всегда можно еще лучше». Эти слова я запомнил на всю жизнь».
С этой партией он прожил три десятилетия. Он не был певцом, который раз выучил, а потом поет по шаблону. В каждом спектакле он что-то менял: взгляд, интонацию, жест. Кто слышал его Гасан-хана в молодости и потом через двадцать лет, говорил: это будто два разных человека, но оба - настоящие.
В годы войны великий Узеир Гаджибейли написал для него кантату «Родина и фронт». Буньятзаде пел ее в филармонии и на передовой, в клубах и на заводах. Кантата звучала как клятва: сильный баритон в зале и на плацу вдохновлял и сплачивал людей, призывая идти вперед и не сдаваться.
Поговаривали, что Гаджибейли хотел сделать новую версию «Кероглу» под его голос - чтобы главную партию пел не тенор, а баритон. Но потом сказал ему: «Ты - Гасан-хан. Таким тебя запомнят». Сам певец позже честно признавался: «Кероглу - это Бюльбюль. Я бы не решился». Он пел рядом с Бюльбюлем, Рзаевым, Имановым - и для каждого находил новый оттенок своего героя.
«Это не голос - это виолончель»
Большой театр звал его не раз. Для любого певца того времени это было бы исполнением мечты. Но он улыбался: «В Москве холодно. А мне голос надо беречь». Он не мог оставить свой Баку и свой театр. Зато гастролировать любил. В Софии его Эскамильо в «Кармен» был событием. Однажды он с семьей отдыхал в Кисловодске, где заболел баритон и спектакль мог не состояться. Когда администрация театра узнала, что в санатории с семьей отдыхает знаменитый Буньятзаде, тут же послали гонца за спасительным баритоном. И он отправился в театр, спел, произвел фурор, а после снова сидел с женой на террасе, будто ничего и не было. Без гонорара, по-человечески.
Его репертуар был огромен. Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини - партия, которую многие считали неподходящей для его «тяжелого» баритона. Но Афрасияб Бадалбейли сказал: «Споет». И оказался прав. Те, кто слышал триоли Фигаро в его исполнении, говорили: «Это не голос - это виолончель». Яго в «Отелло» Верди, Амонасро в «Аиде», Валентин в «Фаусте» Гуно, Шапур в «Хосрове и Ширин», Киазо в «Даиси», Демон… Каждая партия была живая, выстраданная, своя.
Гара Гараев писал: «У него голос не лжет. Если герой жесток - он поет жестко. Если герой благороден - его тембр благороден». Он обожал камерную музыку: мугамы, романсы, европейскую классику. На концертах выдавал такое piano, что зритель боялся вздохнуть, чтобы «не спугнуть» ноту.
Человек-редкость
В 1967 году Агабаба Буньятзаде впервые выступил в новой роли - режиссера. Поставил оперу «Шах Исмаил» Муслима Магомаева. Его коллеги говорили потом: «Он так чувствовал сцену, что мог бы выстроить спектакль даже без нот».
Он не любил громких слов о себе. В театре его знали все: гардеробщицы, монтировщики, билетеры. Если кто-то болел - он приносил лекарства. Если кто-то ссорился - разводил руками: «Зачем? На сцене все важнее». Его внучке, которая спустя годы по делам зашла в оперный театр, старые работники говорили: «Он был редким человеком. Строгим и добрым, без лишних слов, но все знали: этот человек никого не обидит».
В 1943 году Агабаба Буньятзаде стал заслуженным артистом, в 1955-м - народным. Орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени - эти государственные награды он носил скромно. Для него главным орденом была сцена, на которой он выступал три десятилетия.
К сожалению, 17 декабря 1974 года его сердце остановилось.
«Кероглу» все еще идет в Азербайджанском театре оперы и балета. И если вдруг в зале кто-то почувствует легкий мороз по коже, когда звучит ария Гасан-хана, - может быть, это он. Тот самый голос, который однажды услышал Гаджибейли и сказал: «Не потерять».
РЕКОМЕНДУЙ ДРУЗЬЯМ:
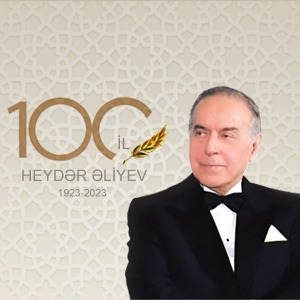









 156
156












